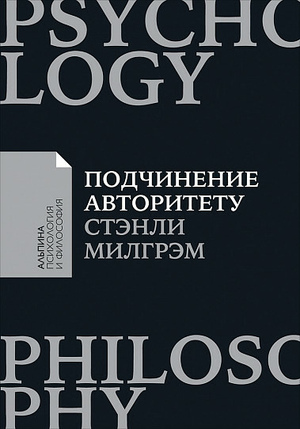Природа зла: как гитлеровский режим превратил патологию в норму
Оксана Кириллова и Илья Женин о психологии морали и научных экспериментах
На ярмарке Non/fiction Весна прошла презентация книги «Обычные люди: 101-й полицейский батальон и “окончательное решение еврейского вопроса”», где историк Илья Женин и прозаик Оксана Кириллова поговорили о том, как социум может пробудить худшее в человеке. Беседу модерировала Анастасия Шевченко, литературный критик и продюсер «Альпины.Проза».

«Я пыталась разобраться, что творилось в голове у моего героя»
— Герой моего романа «Виланд» в детстве стремился к справедливости, а, повзрослев, стал работником концлагеря Дахау. Как так могло получиться?
В гитлеровском режиме произвели подмену понятий. Поступки Виланда, которые сейчас мы воспринимаем как аморальные, тогда в моменте казались ему положительными. Есть лайфхак: если хочешь «протащить» в общество зло, просто назови его добром — условно любым положительным понятием. Такой порок, как воровство еврейского имущества, в устах некоторых политиков стал экспроприацией — якобы «делом во благо бюджета пострадавшего государства», а массовое уничтожение — «очищением нации». Заменяя прямые и точные слова типа «убийство», «истребление», «геноцид» на эвфемизмы, которые звучат безэмоционально и будто бы обоснованно, преступлению предается вид рационального и даже морально уместного действия. И так Виланд, убивая людей, думает, что вершит что-то положительное во имя светлого будущего своей страны.

Работая над романом «Виланд», я обращалась к научным трудам биолога Роберта Сапольски и социолога Стэнли Милгрэма, когда пыталась разобраться с тем, что творилось в голове героя. Милгрэм экспериментально доказал, что человеку комфортно быть «как все». А Сапольски предложил биологическое обоснование. Миндалевидное тело в мозге отвечает за беспокойство и тревожность. Если мы поступаем не как все, его активность усиливается, а мы ощущаем тревогу. То есть поступать «не как все» интерпретируется мозгом как потенциальная угроза. Делать же «как все» — даже если это неправильно — нашему мозгу спокойнее, чем отстаивать свою точку зрения, которая видится правдой.

Свобода воли и сопротивление нацизму
— Понятие свободы воли имеет теологическое происхождение и вызывает научные споры. Ведутся дискуссии среди философов, теоретиков права, нейропсихологов, когнитивных психологов: если у нас всё зависит от гормонов, то где здесь, собственно говоря, свобода воли? И тогда весь уголовный кодекс необходимо пересматривать, потому что нужно наказывать человека не за поступки, а за перебои в гормональной системе.
Когда речь заходит о сопротивлении нацизму, часто вспоминают Клауса фон Штауффенберга, который совершил покушение на Гитлера. Важно отметить, что он вполне разделял идеи национал-социализма, но ему не нравились некоторые решения Гитлера. Штауффенберг выступал не против бесчеловечного режима, а против руководства, в частности политики на фронте.
Сразу после войны, в период становления нового немецкого государства, речь идет прежде всего о Западной Германии, сложился общественно-политический консенсус, суть которого заключалась в том, что о недавнем прошлом лучше не вспоминать и не говорить. Это позволило интегрировать бывших членов партии, среди которых были чиновники, учителя, врачи и многие другие, в создание новой немецкой государственности.
Ситуация изменится лишь во второй половине 1960-х годов, когда послевоенное поколение немцев начнет задавать вопросы родителям и решительно выступать против засилья бывших нацистов в госаппарате ФРГ. Апогеем этого процесса станут студенческие выступления 1968 года.

Постепенно прошлое станет предметом общественной рефлексии, будут обозначены герои, злодеи, жертвы или агрессоры. На общественное мнение особенно повлиял Франкфуртский процесс 1963–1965 годов, когда перед судом предстали работники лагеря смерти в Освенциме. Широкой публике были представлены документы, изобличающие бесчеловечную деятельность персонала, в том числе и медицинских работников, проводивших эксперименты на заключенных. С этого момента тема преодоления нацистского прошлого станет неотъемлемой частью современной Германии.