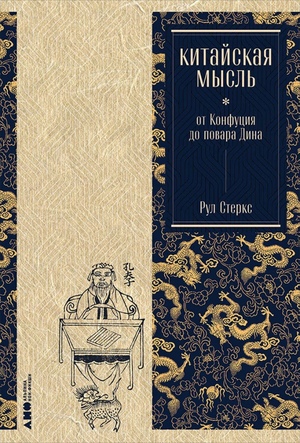Рациональность не обязана быть исключительно аристотелевской: синолог Андрей Крушинский о силе китайской мысли
Могущественная китайская цивилизация подарила миру много значимых для мировой культуры мыслителей и идей. Однако, несмотря на огромное влияние, которое Китай и сегодня оказывает на Запад, для многих наблюдателей китайский образ мыслей по-прежнему во многом остается тайной. К выходу книги «Китайская мысль: от Конфуция до повара Дина» мы поговорили о картине мира жителей Поднебесной с кандидатом исторических наук, доктором философских наук, главным научным сотрудником Центра изучения культуры Китая Института Китая и современной Азии РАН Андреем Крушинским.
Фото обложки: Летний императорский дворец (Пекин). Источник: pixabay.com
В чем заключается основное различие между восточной и западной картиной мира?
Существует рутинное клише: Запад — рационален и «научен», а Восток — в лучшем случае «протонаучен» и неуклонно тяготеет к иррационально-интуитивному восприятию мира. Якобы в этом и состоит главное различие между восточной и западной мыслью. Разумеется, подобного рода противопоставления всего лишь недопустимые упрощения.
Я полагаю, что главное отличие — в неустранимом расхождении восточной и западной языковых картин мира, которое предопределяется несходством письменностей. Так, например, особенность древнекитайской мысли — это ее укорененность в исходной изобразительности китайского иероглифического письма. В противоположность конвенциональности западного фонетического письма, когда звучание посредничает между знаком и его значением, иероглиф (пиктограмма или идеограмма) — своей графической структурой — изображает репрезентируемую сущность, точнее, ее видение создателями иконического письма. Поэтому в Китае мы сталкиваемся с существенно иным, нежели в западной мысли, способом категориального мышления, который базируется не на интуиции отдельной «вещи» (соответственно, класса однородных «вещей»), а на целостном образе, представляемом отдельной пиктограммой/идеограммой.
На мой взгляд, именно категориальность, детерминированная языковой картиной мира, разнит Запад и Восток в первую очередь.
Китай — огромная страна со множеством регионов. Можно ли в таком случае говорить о единой китайской культуре?
Трудно сказать, как и насколько это единство в прошлом ощущалось людьми из разных регионов Поднебесной, но ретроспективный взгляд из современности позволяет ответить на этот вопрос утвердительно. Конечно, в разных территориальных образованиях эпохи Сражающихся царств существовали свои культурные отличия, но общими для них были иероглифическое письмо, постепенно складывающийся корпус письменных памятников и сформированный этими каноническими текстами менталитет. О мощном ассимилирующем эффекте китайской культуры красноречиво свидетельствуют, к примеру, судьбы монгольской династии Юань и маньчжурской династии Цин, органично вписавшихся в длинную череду династийных историй.
Похоже, что решающим фактором сохранения исторической преемственности китайского мышления стала именно бережно хранимая великая письменная культура Китая. Конфуцианство в конечном итоге благополучно спаслось, пережив жестокие гонения времен Цинь Шихуанди (правил в 246–210 гг. до н. э. — Прим. ред.) как раз благодаря тому, что не утратило свои базовые тексты.
В этом отношении весьма показателен заключительный период традиционной китайской мысли (рубеж позапрошлого и прошлого веков), ознаменованный особенно причудливыми — иногда гротескными — усилиями противостоять нарастающей западноевропейской интеллектуальной экспансии. Отчаянная апелляция к глубинным основам всего китайского мышления — категориальным представлениям, сосредоточенным в «Каноне Перемен» (И Цзин), — явилась ответом традиции на вызов со стороны западной философской и научной мысли. Заимствование фундаментальных западноевропейских идей и образов облегчалась верой китайской интеллектуальной элиты в общность исходных интуиций китайской и западной цивилизаций. Считалось, что не только достижения естественных наук Нового времени зашифрованы образами и числами «И цзин», но и такие западные общественно-политические концепции, как, например, демократия, конституционная монархия, социализм, судебная система и независимость судебной системы.
Даже финальное падение монархии, инициировавшее распад привычного феодального уклада и выглядящее катастрофическим фиаско всего традиционного мировидения, оказалось далеко не равнозначно тотальному слому многотысячелетней категориальной парадигмы.
Китайская традиционная категориальность вовсе не закончилась с гибелью Старого Китая.
Расстаться со своим тысячелетним видением реальности оказалось не столь же простым делом, как, например, удаление из системы образования конфуцианской классики. Достаточно сказать, что эпоха так называемого Нового Китая открылась призывом к революции — по кит. гэмин (букв. «перемена судьбы»), где гэмин представляет собой прямое заимствование из «Канона Перемен». Парадоксальным образом разрыв с «проклятым» конфуцианским прошлым проходил под знаком гексаграммы № 49 «Перемены/Гэ» (64 гексаграммы И цзина представляют собой мантические диаграммы, то есть полученные в результате гадания всевозможные шестичастные конфигурации, составленные из прерванных и непрерывных черт. — Прим. ред.), являющейся неотъемлемой частью главнейшего из конфуцианских канонов, восходящего к истокам китайской цивилизации.
А как же «культурная революция» Мао Цзэдуна? Она нанесла урон китайской культуре?
Несомненно. Но при всем том само знамя революции/гэмин, под которым революционеры бескомпромиссно громили конфуцианскую традицию (особенно в рамках знаменитой политической кампании «Критика Линь Бяо и Конфуция»), продолжало оставаться глубоко традиционным. Данный замечательный факт, по моему глубокому убеждению, неоспоримо свидетельствует о незыблемости гексаграммной категориальности даже в самые бурные периоды китайской истории.
Правда ли, что китайских мыслителей, в отличие от западных, почти не интересовали вопросы эпистемологии и онтологии — вопросы соотношения духа и материи, существования истины? Какие проблемы занимали их умы?
Этот на удивление живучий стереотип (а по существу одна из эффективнейших стратегий западной доминации) представляет собой немаловажную скрепу западноцентричного мировидения. Заметим, что сей уничижительный вердикт имеет долгую историю. Ведущие европейские мыслители издавна отказывают китайскому традиционному мышлению в систематичности, теоретичности и рациональности. У них получается, что китайская мысль — это не более чем банальное морализирование, нравственная философия, в лучшем случае этическая метафизика.
Аргументы здесь самые разные. В последнее время в духе популярной аналитической философии с ее подчеркнутым вниманием к анализу языка в ходу довод относительно «отсутствия соответствующего термина». Вот и автор книги «Китайская мысль: от Конфуция до повара Дина» Рул Стеркс с готовностью воспроизводит подобную линию аргументации применительно к китайской мысли. По его мнению, поскольку в классическом китайском языке не было специального термина для обозначения философии, соответственно, не было и такого понятия, такой формы познания, такой дисциплины и т. д. Никак не могу согласиться с ним в этом пункте. Хотя многие европейские термины и не находят для себя прямых аналогов в классических китайских текстах (например, слово «логика»), было бы весьма опрометчиво лишь на этом основании отказывать китайской интеллектуальной культуре в наличии соответствующих концептов.
В Древнем Китае было и понятие истины, и ее поиски.
Вот только понятие истины, будучи производным от понятия дао (подлинный способ бытия того или иного конкретного сущего, раскрывающий «истину» этого сущего), имеет специфически процессуальный, более того — стратагемный характер. Такая истина раскрывается во времени, иначе говоря, она раскрывается исторически. Тем самым эссенциализму, который отличает классическую европейскую концепцию независимой от человека вневременной истины, противостоит процедурное понимание истины как эффекта следования тому или иному дао. Более того, в случае человеческого дао этот процесс истины рассматривается как успешное осуществление определенной стратегии. Я утверждаю, что как раз таки опора на стратагемность при конструировании истины составляет китайскую специфику этого понятия — краеугольного как для древнегреческой, так и для древнекитайской мысли.
Когда Китай стал вторым по экономике центром мира, на повестку дня в очередной раз встал вопрос о рациональности китайской традиционной мысли и, соответственно, о природе собственно китайской логической традиции. Дело в том, что длительное время исследователи пребывали в плену следующей ложной дилеммы: либо совершить насилие над оригинальным китайским материалом, навязывая ему схемы традиционной логики (базирующейся на аристотелевской силлогистике), либо настаивать на существовании некой особой китайской логики, отличной от силлогистики, что неизбежно лишало первую статуса логики. На самом же деле если логика по определению является квинтэссенцией рациональности, то логика Древнего Китая — это своего рода концептуальный экстракт китайских стратегий выживания и доминирования, стратагемного мышления, столь востребованного в условиях остро конкурентного мира современности. Типичный для нарциссической ментальности самообман насчет мнимого отсутствия самобытной и развитой логической теории в интеллектуальном багаже Древнего Китая — это не просто реликтовый анахронизм, он еще и серьезно дезориентирует научное и экспертное сообщество.
Меняется ли сегодня китайская культура из-за тесных отношений с Западом?
Конечно. Западная масскультура стремительно проникает в китайское общество, причем проделывает это в весьма вульгарной форме. Я уже довольно давно не был в Китае, но еще на закате советской эпохи, в мою бытность в Шанхае, меня сначала смешили, а потом и раздражали назойливые обращения (непременно на английском!) молодых китайцев — бесконечные «Hello!» и «Where are you from?». Согласитесь, страновед вовсе не для того приезжает в изучаемую страну, чтобы общаться там с коренными жителями на равно чуждом и ему, и им языке. Только спустя некоторое время я понял, что голубой мечтой молодого образованного китайца уже в ту пору был по возможности безболезненный переезд в Америку, Европу, на худой конец — в Австралию. Сегодня, когда весь мир захвачен процессом глобализации и многие уже спят и видят себя гражданами глобального мира, мне почему-то думается, что китайцам все же сложнее решить эту задачу, чем, например, россиянам.
Беседу вела Анна Уткина.